Подпиленный столик
Нынешний день выдался хлопотливым, как и обычно-первый день приезда в губернский город.
Утром волнение во время встречи, когда едва ли не весь город под колокольный звон высыпал на улицы, и упряжной рысак бойко мчал легкие санки по недавно выпавшему снегу. Затем недолгая служба в Воскресенском соборе, а поздним вечером деловой прием губернаторов — военного и гражданского. В это время на набережной у дома собрался народ, кричал «Ура!», и император Александр в одном сюртуке, невзирая на поднявшийся к ночи пронизывающий ветер, три раза выходил на балкон, поклонами отвечая на восторженные клики.
И сейчас, глубокой ночью, когда все спали, ему снова вспоминался Воскресенский собор, островки свеч на высоких храмовых подсвечниках у икон, низкий внушительный бас протодиакона, возглашавшего многолетие всему Царствующему Дому, преосвященный Онисифор, и его белая, высохшая в подвигах поста и воздержания ладонь, которую Александр поцеловал после благословения.
Постаревший Владыка, его кроткая улыбка и понимающий взгляд пробудили в памяти события одиннадцатилетней давности.
Весна 1813 года. Бунцлау. Больной, умирающий федьдмаршал. Владыка (в ту пору еще отец Онисим) был тогда старшим благочинным Молдавской армии. Они часто встречались с ним, подолгу беседовали. Впоследствии судьба развела их, но и в разлуке Александр не редко вспоминал этого скромного, душевного отца протоиерея, истинно православного пастыря.
Бунцлау. Жарко натопленная комната. Запах ладана и лекарств. Последние колкости едкого на язык фельдмаршала. Отец протоиерей был духовником умиравшего, соборовал его и причастил Святых Таин.
Император Александр отложил книгу, которую рассеянно перелистывал в кресле, серебряными щипчиками снял нагар со свечей жирандоля, прошелся по комнате, в задумчивости перекладывая из руки в руку веские кисти пояса персидского халата.
Кутузов. Сколько неприятностей и огорчений претерпел он. от этого человека. Разве изгладится из памяти тот день, когда во дворце была получена реляция, что русские войска оставили Москву. Древнюю столицу с ее святынями, с гробницами великих князей и царей. Что пережил он тогда! Досаду. Обиду. Гнев. Укоры в душе об оплошной замене Барклая де Толли. Но тверже душевного смятения была в сердце вера и стойкая надежда на народ, на Россию.
Господь сохранил державу. Французам пришлось солоно в Москве и они, до безобразия напакостив в чужом доме, учинили бесславную, позорную ретираду.
Кто, Господи, знает стези Твои? Еще вчера выскочка Бонапарт безумствовал в первопрестольной, и где он теперь? На скудном клочке каменистой земли в океане. Это победоносные русские войска низвергли тирана и, торжественно вступив в ликующий Париж, даровали народам Европы свободу и тяжкими трудами добытый мир.
Александр приблизился к образу Спасителя в резком киоте в углу комнаты: подобрав полы халата, стал на колени, помолился об упокоении души усопшего фельдмаршала и всех воинов на поле брани за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших.
Кабинетные часы, стоявшие в простенке, мелодично пропели начало менуэта и звучно, но мягко ударили один раз.
Пора, пора спать. Трудный, хлопотливый выдался день, и впереди ждет не легче. Что делать, он же сюда не на прогулку приехал, не полонез на балу танцевать. Хотя, конечно, и бал, и полонез его ожидают. Это будет завтра. Ах нет, уже сегодня.
Задув свечи жирандоля, Александр сел на кровать—ложе из красного дерева, украшенное бронзовыми накладными узорами, изделие домашних мастеров - и стал раздеваться. Собственно говоря, он уже давно был раздет камердинером и облачен в ночной халат, но халат можно снять и самому. Александр достал из походного несессера флакон с французскими духами, уронил несколько душистых капель на подушку и постель, поставил хрустальный флакон на круглый столик возле кровати. Столик качнулся и на нем качнулся ночник—подсвечник, изображавший французского гренадера, в медвежью шапку которого вставлялась свеча.
Это незначительное происшествие прервало стройный ход прихотливых мыслей и воспоминаний. Александр поднялся с кровати, запахнул распоясанный халат, от ночника затеплил свечи жирандоля—комната наполнилась ровным светом—переставил ночник с флаконом на кресло, перевернул трехногий столик вверх ножками и дернул шнур сонетки. Дверь комнаты распахнулась.
— Друг мой, — по-французски сказал он появившемуся камердинеру, — принесите мне небольшую пилу.
Огонек изумления, мелькнувший в глазах камердинера, показал, обозначил, как огорошен он ночной просьбой царя.
Камердинер исчез и через мгновение появился с хозяином дома — купцом Витушешниковым.
Александр поморщился. Дело приняло слишком публичный характер. Все являются так скоро и с такими лицами, что становится очевидно— в доме из-за него никто не спит. Люди ждут, когда уляжется он.
— Ваше императорское Величество, — спросил от порога Витушешников, — Вам нужна пила?
— Да, любезнейший Осип Иванович, — подходя к нему, сказал Император. — Обыкновенная пила. Столик качается и раздражает мои нервы. Я не могу заснуть. — Александр повернулся к камердинеру и ласково, но строго сказал: — Друг мой, я же просил Вас принести пилу, а не поднимать на ноги весь дом.
Камердинер, потупившись, слушал выговор.
Хозяин дома между тем вышел в коридор, что-то энергично прошептал там, возвратился в комнату, молча, с выражением задумчивой скорби осмотрел злополучный столик.
Через минуту в комнате появился еще один человек—плечистый молодой мужик, в чистой рубахе, с ровно постриженной русой бородой, с почтительным, но не робеющим, открытым взглядом светлых и ясных глаз. Он замер у порога с небольшой пилой в руке. Видимо, это домашний столяр.
Александр шагнул к нему. Столяр, при виде приближающегося царя, сделал движение опуститься на колени, но Александр жестом показал ему, что этого делать не следует, взял пилу, глянул вдоль полотна.
Мелкие зубья искристой строчкой играли на свету.
— Как зовут тебя, братец?
—Федором, ваше императорское величество.
— Пойдем со мной.
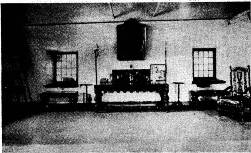
Федор положил столик на крышку большого дорожного чемодана, держал, чтобы он катился. Александр свободной рукой взялся за стойку стола, прищурив левый глаз, сделал еле заметный пробный надпил на одной, потом на другой ножке, еще раз примерился взглядом и неторопливо, но уверенно подравнял обе ножки.
Вскоре комната опустела. Ушел хозяин—растроганный образом монарха, работающего пилой; ушел Федор—в кулаке унося золотой империал, а в душе благодарность за помощь и отменно наточенную пилу. Камердинер вынес на подносе подметенные опилки и кончики ножек'
В комнате вновь горел один ночник, да мерцала лампада у образа. Мерно шли часы, а в изголовье кровати стоял теперь не качавшийся столик.
Император Александр засыпал. События миновавшего дня, воспоминания о прошлом, предположения и мечты о будущем туманно перемешивались в голове, окутывая сознание вязкой пеленой сна. В редкие мгновения еще ясно сознавая себя, он вспоминал, как по ладони пришлась ему удобная пила, как споро она шла в древесине. Затем вспоминалась благословляющая рука Онисифа, умирающий фельдмаршал. И будто Федор, фельдмаршал, Онисифор и он, были—одно. Но тут в это единое целое внезапно, пугающе-радостно, как это часто бывает во сне въехал Париж—широкая, шумная, солнечная улица с марширующими по ней войсками, сотнями казаков и драгун, со сверкающими на солнце золотом парадных кирас рядами кавалергардов.
«Ах, Париж, Париж, — подумал Александр ускользавшей, и во сне тронувшей его до слез мыслью, — ничего не стоит твоя победная, парижская слава рядом с моей чудной и милой страной, Отечеством, где куда бы я ни приехал, всюду буду дома.